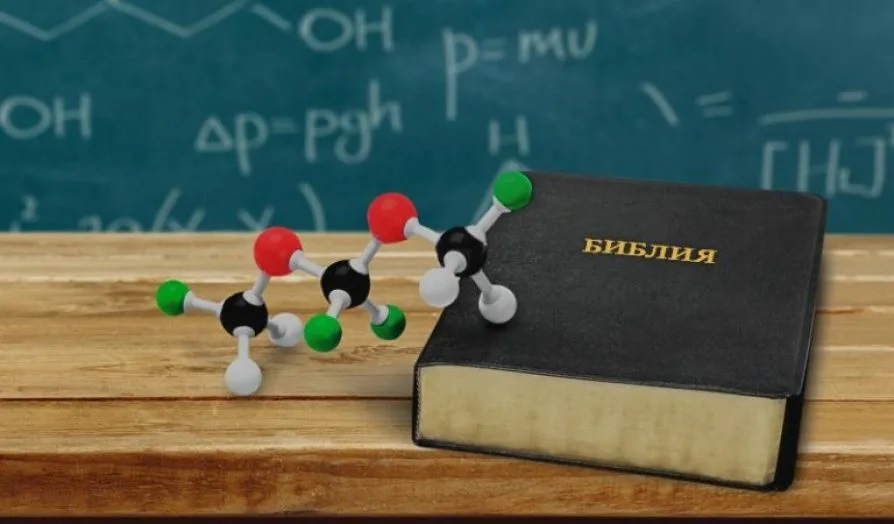
ОТНОШЕНИЯ НАУКИ И ВЕРЫ
ОТНОШЕНИЯ НАУКИ И ВЕРЫ
Отдельно стоит поговорить о соотношении научного знания и веры, тут мне придется кратко повторить сказанное в прошлой книге. Согласно НЗ, «вера кладет твердым основанием надежду и являет незримое» (Евр 11:1) . Отталкиваясь от этого высказывания, можно сказать, что наука «кладет основанием факты и логически предсказывает ненаблюдаемое». Более того, вера стремится к неким законченным формулировкам, которые не подлежат пересмотру, а наука по определению – вечно длящийся спор различных теорий, методов и направлений, у нее, вопреки расхожей поговорке, никогда не бывает «последнего слова», если только это настоящая наука, а не подпорка для очередной идеологии.
Наука неотделима от такого понятия, как научный метод . Что это такое, точно определить трудно, но можно назвать следующие основные принципы, разделяемые практически всеми учеными:
• любое утверждение должно быть доказано (принцип верифицируемости);
• любое утверждение в принципе может быть опровергнуто (принцип фальсифицируемости);
• любое утверждение должно быть основано на законах логики;
• любое утверждение должно сопровождаться указаниями на его ограничения, сферу применимости и «слабые места».
Критерий фальсифицируемости, выдвинутый в 1935 г. Карлом Поппером, с тех пор считается своего рода границей научного знания. Всякое научное утверждение в принципе может быть опровергнуто новыми фактами или экспериментами, если же оно неопровержимо – оно не является научным. Так, утверждение «Сын Божий воплотился от Девы Марии» не является научным, поскольку не может быть такого эксперимента или такого объективного факта, пусть даже нам пока недоступного, который его бы опроверг. А вот утверждение «для христиан было с самого начала характерно представление об Иисусе из Назарета как о Сыне Божьем, хотя конкретный характер этого сыновства разные общины и личности определяли по-разному» принципиально опровержимо и потому научно.
Обратим внимание, что научность не тождественна истинности. Более того, утверждение «наука доказала, что…» почти всегда неверно, потому что наука обычно не дает окончательных ответов. Она предлагает объяснения наблюдаемой действительности, которые описывают наибольшее возможное количество фактов при наименьшем количестве допущений наиболее убедительным образом и позволяют давать наиболее точные прогнозы. При этом каждое новое объяснение само становится объектом критического анализа и часто сменяется другим, которое удовлетворяет этим критериям еще лучше. А нередко два или несколько объяснений сосуществуют параллельно, каждое со своими сильными и слабыми сторонами.
К тому же науки бывают разными. Рассказывают, что некогда на заседании Академии наук СССР вице-президент Академии, математик Владимир Стеклов заявил: «Науки делятся на естественные и противоестественные». А историк Сергей Платонов на это ответил: «Нет, на общественные и антиобщественные». Действительно, образцовыми обычно считаются точные науки вроде физики, в них достижима абсолютная устойчивость и повторяемость результатов. Науки, посвященные живой природе, например, биология, точны в меньшей степени, потому что живые организмы изменчивы и неповторимы. Социальные науки, которые имеют дело с сообществами разумных (хотя бы относительно) людей со свободной (та же оговорка) волей, еще дальше от воспроизводимости и предсказуемости результатов. И уж совсем сложно о них говорить, когда речь заходит о прошлом: его принципиально невозможно воспроизвести.
Значит ли это, что история не может быть наукой, что она – всего лишь проекция очередной идеологии? Да, такая «история» тоже существует, но она достаточно легко опровергается самими историками с помощью всё тех же критериев научного метода. В начале XIX века основная задача исторической науки была сформулирована прусским историком Леопольдом фон Ранке: «показать, как это было на самом деле». Он имел в виду примерно то же, что римский историк I-II вв. Тацит, который повествовал о прошедших событиях «без гнева и пристрастия»: не пытаясь оправдывать или обвинять исторических персонажей, не отбирать лишь удобные факты, не выполнять политический или общественный заказ на сборник приятных мифов о «великом прошлом нашего народа». Собственно, это и отличает честную историческую науку от идеологической пропаганды.
Эта цель прекрасна и стремиться к ней, безусловно, следует. Однако за почти два столетия, прошедшие с тех пор, как фон Ранке высказал этот свой принцип, в гуманитарных науках изменилось очень многое, и эта цель уже не кажется столь легкодостижимой, как прежде. А что, если фактов у нас недостаточно, свидетельства невозможно проверить, они противоречат друг другу? А может ли каждый историк до конца абстрагироваться от собственных мнений и стать полностью объективным? А если нет, то не получится ли, что в наше постмодернистское время невозможна вообще никакая объективная «всеобщая история» и существует лишь набор разнообразных нарративов, из которых каждый выбирает себе подходящий, а при его отсутствии конструирует новый? Здесь невозможно изложить эту дискуссию даже в самых общих чертах, но, если история по-прежнему считается наукой, значит, историки все же считают достаточную степень объективности достижимой.
Когда мы приступаем к анализу повествований, изложенных в НЗ, проблема становится особенно острой. Речь идет о событиях, которые произошли (или предположительно произошли) примерно две тысячи лет тому назад, от которых во множестве случаев не осталось, да и не могло остаться материальных подтверждений, а тексты, в которых они описаны, с момента своего появления на свет или вскоре после него были объявлены Священным Писанием, Божественным Откровением и сохраняют этот свой статус по сей день для разных религиозных групп. Стремление подтвердить или опровергнуть религиозные верования – один из самых частых мотивов исследователей, но подходы при этом могут быть очень и очень различными.
Андрей Десницкий
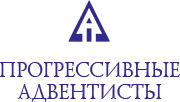
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой