
ПОЧЕМУ МОЛЧАНИЕ ОПАСНО
ПОЧЕМУ МОЛЧАНИЕ ОПАСНО
В христианских кругах нередко можно услышать мнение о том, что критиковать — это плохо. Считается, что, критикуя церковь, человек «чернит» её, «паплюжит», тем самым разрушая единство. Во многих общинах любое несогласие или критическое высказывание встречается типичными фразами: «Ты что, самый умный?», «А не гордость ли это?». Возникает вопрос: откуда появился подобный нарратив?
Исследователи церковной культуры постсоветского пространства указывают на влияние советского прошлого. Несмотря на убежденность некоторых, что отголоски советского мышления уже не актуальны, реальность свидетельствует об обратном. В СССР критика системы воспринималась как угроза, а несогласие — как предательство. Тех, кто высказывался «не так», нередко называли «сомнительными», «инакомыслящими», «врагами народа». Образ «слишком умного» стал опасным. Этот шаблон, укоренившийся в массовом сознании, проник и в церковную культуру.
В церковной среде по сей день можно наблюдать, как критическое мышление или несогласие тут же воспринимается как проявление гордости. Фразы вроде: «А что вы тут рассказываете? Вы что, самые умные?» становятся типичной реакцией. Складывается ощущение, что любое альтернативное мнение расценивается как угроза.
Такая атмосфера порождает страх. Верующие боятся выделяться, говорить правду или просто делиться мыслями — лишь бы не выглядеть «теми, кто возомнил о себе». Несогласие воспринимается как бунт. Предполагается, что если человек не соглашается, значит, он сеет вражду и разрушает единство. Но действительно ли единство заключается в полном согласии?
Мы думаем, что подлинная гордость — это именно стремление заставить всех думать одинаково. Настоящая зрелость, напротив, проявляется в способности выслушивать, принимать и уважать иные точки зрения. Христианское общение, если оно зрелое, предполагает свободу размышлений и обсуждений при сохранении уважения. Несогласие с большинством не должно быть автоматически приравнено к гордыне.
В этом контексте важны слова Грегори Коукла:
«Споры — это хорошо, и дискуссии полезны. Они проясняют истину и оберегают нас от заблуждений и религиозного деспотизма. Если церковь отказывает своим членам в праве вести принципиальные дискуссии и свободно высказывать мысли, результатом станет неглубокое христианство и ложное ощущение единства. Ни у кого не будет возможности научиться благосклонно и продуктивно реагировать на противоположные точки зрения. Единство в такой общине будет не искренним, а напускным.Что ещё хуже — её члены утратят способность отличать истину от лжи. Попросту говоря, где мало споров — там много заблуждений».
Таким образом, критика не является проявлением надменности. Для многих верующих это форма ответственности, желание исправления и боль за Тело Христово. Люди, которые свято верят и преподносят идею о том, что критиковать — это страшный грех, вероятно, открывают Священное Писание лишь по праздникам. Либо читают его сквозь пальцы — через розовые очки. Но если задуматься, действительно ли в Библии нет примеров критики со стороны верующих?
На самом деле, Ветхий Завет изобилует подобными примерами. Все пророческие книги — от Исаии до Малахии — представляют собой обличения. Это критика в адрес царей (власти), народа (религиозных и социальных практик), священства (извращённой и коррумпированной религии), а иногда всех сразу. Мы видим десятки эпизодов и сотни стихов, где пророки говорят резко, неудобно, и очень открыто.
Пророки не боялись использовать резкие выражения. Их слова нарушали социальные табу, звучали жёстко и громко, потому что цель пророческой речи — пробуждение совести, а не угождение слуху. Пророки не стремились к популярности — их задача заключалась в том, чтобы обличить народ и призвать к покаянию, даже ценой собственной безопасности.
Так, например, пророк Илия открыто обличает царя Ахава, называя его «возмутителем Израиля» (3 Царств 18–21). Он прямо проклинает его дом. В результате его начинают преследовать, и он скрывается в пустыне.
Пророк Иеремия — ещё один пример. Он многократно обличал царей, священников и народ. За это его били, бросали в темницу, в яму с грязью. Он не боялся говорить: «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от сокрушения дщери народа моего, когда отроки и младенцы истаивали на улицах городских. Матерям своим они говорили: «Где хлеб и вино?» и умирали, как раненые, на улицах городских, изливая души свои на лоно матерей своих» (Плач Иеремии 2:11-12). Пророк не боялся говорить о смерти, голоде и слезах — потому что истина Божья должна прозвучать даже среди руин. Его не пугала боль — потому что он служил не человеческому удобству, а Божьей правде и милосердию.
Апостол Павел, обличив Петра (Гал. 2), не считал себя «самым умным», но не мог молчать. Кроме того, весь Новый Завет во многом представляет собой ответы на различные проблемы и споры внутри христианских общин. В текстах присутствует критика и обличение. Апостол Павел, например, неоднократно обличает общины, которые уклоняются от учения или следуют ложным идеям. Также книга Откровения содержит множество обличительных посланий, направленных на исправление и предупреждение. Следовательно, церковь, в которой опасаются вопросов и правды, становится не носителем истины, а системой страха.
Если читать Библию внимательно, а не опираться на вырванные из контекста фразы вроде «любовь всё покрывает», становится ясно: Божьи люди действительно критиковали. Критика — это не гордыня и не разрушение. Это — свидетельство боли за народ, ответственности за истину и верности Божьему Слову.
Критика в Писании — это проявление духовной зрелости и глубокой любви к Богу и Его народу. Замалчивать зло — куда опаснее.
Нонконформизм в вере: исторические примеры
Противостояние несправедливым общественным структурам, злу, а иногда и действиям или молчанию церковных институтов требует значительной внутренней стойкости и опоры на христианскую веру.
Изучая историю церкви, можно наблюдать, что были люди, которые настолько сильно любили Бога и истину, что не могли молчать. Примерами таких личностей являются Дитрих Бонхеффер и Мартин Лютер. Они проявили готовность отстаивать истину, даже ценой собственной безопасности, демонстрируя глубокое убеждение в необходимости отвечать на нравственные вызовы своего времени.
Практика нонконформизма в религиозной традиции, особенно когда речь идет о критическом отношении к доминирующим структурам, обычно связана с социальной изоляцией, отсутствием поддержки и непониманием. Тем не менее, история показывает, что такие позиции часто становятся двигателем глубоких реформ и переосмысления как в церковной, так и в общественной среде.
Но доминирующее церковное наставление остаётся прежним: «не выноси сор из избы», «не критикуй», «не подрывай единство», «лучше помолись». Всё это формирует ложную убеждённость, будто критика несёт только разрушение.
Подобная культура молчания трансформирует страх в видимость смирения, подавленность в образ послушания, а честность — в бунт. Зло перестают называть злом. Когда пастырь унижает, это называют «твёрдым словом». Когда женщина страдает в абьюзивном браке, её учат «терпеть, как Христос». Когда с кафедры звучит ересь, её предпочитают не замечать, потому что «нельзя судить помазанников».
Когда верующие задают вопросы, их обвиняют в гордости, недостатке любви и гордыне. Образование в такой среде становится подозрительным. Желание изучать богословие или мыслить критически встречает сопротивление: «проповеди обсуждать нельзя», «любовь важнее истины», «размышления подрывают авторитет».
В это время с кафедры может звучать открытая ересь, и никто не смеет её назвать таковой. Анализ приравнивается к бунту, вопрос — к атаке на единство, стремление к истине — к надменности. Тех, кто всё же осмелится говорить, могут унизить, обвинить, заставить молчать, покаяться, «смириться», «пересмотреть сердце». Личная боль будет интерпретирована как доказательство неправильности самого человека.
Каждое молчание становится актом передачи власти. Каждое отворачивание от чужого страдания — кирпичом в основании системы, где зло чувствует себя в безопасности.
Параллельно в цифровом пространстве процветает псевдодуховность: пастельные блоги, рилсы с чашечками кофе и псалмами — эстетика без боли, без вопросов, без анализа. Там не говорят об абьюзе, не обсуждают ошибки, не критикуют. Критика объявляется негативом, анализ — сомнением, правда — токсичностью.
Такой образ церкви, формирует в глазах людей глянцевую, но оторванную от реальности картину. В это время одних выгоняют за честность, других подавляют за попытки думать, третьих ломают за сопротивление. А большинство — продолжает молчать, якобы «ради любви».
Но когда зло доходит до каждого — уже некому защитить. Потому что культура молчания не спасает. Она делает церковь удобной для тех, кто разрушает, подавляет, унижает, прикрываясь авторитетом.
Молчание — это не смирение. Это соучастие. Это союз с системой, которая подавляет истину. Это предательство тех, кто нуждается в защите. Церковь, в которой нельзя говорить, не исцеляет. Она калечит.
Ника Андриец
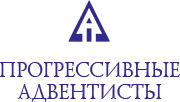
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой