
Гилберт Честертон. Книга Иова
Среди других книг Ветхого Завета «Книга Иова» — загадка, и философская, и историческая. Сейчас, в таком предисловии, нам важна загадка философская, и потому мы можем сперва очень коротко объяснить то, что касается истории, или предупредить читателя.
Давно спорят о том, что в книге исконно, что вставлено позже. Учёные, как им и положено, не сходятся во мнениях; но более или менее признано, что интерполяции (если они есть вообще) — это пролог, эпилог и, может быть, речь молодого человека, который возражает друзьям Иова к концу поближе.
Я в таких вопросах не разбираюсь. Однако — к какому бы выводу ни склонился читатель — нужно помнить одну истину. Когда речь идёт о древних творениях, не думайте, что они стали хуже, если создавались постепенно. Возможно, «Книга Иова» создана не сразу, как Вестминстерское аббатство. Но те, кто создавал древние поэмы (как те, кто создавал аббатство), не придавали особого значения ни точной датировке, ни точному авторству; значение это породил почти безумный индивидуализм нового времени.
Отложим на время случай Иова — он осложнён религиозными спорами — и возьмём, к примеру, «Илиаду». Многие разделяют поистине современное мнение: Гомера написал не Гомер, а кто-то другой, его тёзка. Точно так же многие полагают, что Моисей — не Моисей, а кто-то другой, звавшийся Моисеем. Но помнить и думать надо об ином; если какие-то люди что-то вставляли в «Илиаду», это совсем не так страшно, как если бы что-то вставили в нынешнюю поэму.
Эпос племени был, собственно, и делом племени, словно местное святилище. Думайте, если хотите, что пролог, и эпилог, и монолог Елиуя вставлены позже. Только не думайте, что вставки эти столь же явственны и чужеродны, как вставки в творение нынешнего индивидуалиста. Не воспринимайте их так, как воспринимали бы главы Джорджа Мередита, если бы вдруг оказалось, что их написал другой, или пол-акта у Ибсена, ловко подсунутые ему Уильямом Арчером.
Помните, что древний мир, создавший эти поэмы, верно хранил предание, традицию. Отец мог оставить поэму сыну, чтобы тот её кончил, как мог оставить возделанную землю. Возможно, «Илиаду» создал кто-то один; быть может — целая сотня людей. Но помните: тогда в этой сотне было больше единства, чем сейчас в одном человеке. Тогда город был как человек. Теперь человек — как город, объятый гражданской войною.
Итак, не вдаваясь в учёные споры о единстве, мы вправе сказать, что книга — едина, как едины все великие старые творения, как един Кентерберийский собор. Примерно то же можно отнести к загадке философской. В определённом смысле «Иов» и впрямь отличается от книг, включённых в канон Ветхого Завета. Но и здесь ошибутся те, кто станет подчёркивать отличие. Ошибутся те, кто считает, что Ветхий Завет — просто скопище книг, без склада и без цели.
Духовная ли истина к тому привела, национальная традиция или просто искусный отбор, Ветхий Завет отличается вполне явственным единством. Не понимая этого, его не поймёшь, как не поймёшь ни одной пьесы Шекспира, не зная, что у него были философские воззрения. Читать Ветхий Завет, не видя единства, столь же нелепо, как читать «Гамлета», принимая его за хронику истинных событий из жизни датского принца древних, пиратских времён.
Читатель просто не поймёт, что Гамлет колеблется по замыслу автора; он скажет: «Как долго и нудно этот принц убивает врага!» Но именно так говорят обличители Библии, которые на самом деле слепо ей поклоняются. Они не понимают её особого звучания и сути, её главной мысли, гласящей, что все мы — орудия воли Божьей.
Так, например, те, кто сетует на жестокость или лукавство судей и пророков Израиля, ведомы мыслью, которая к делу отношения не имеет. Они — христиане; они привносят в дохристианскую пору чисто христианское представление о святости, то есть о том, что орудием Божьим обычно бывают очень хорошие люди. Представление это глубже, дерзновенней, прекрасней, чем ветхозаветное: значит, невинность столь могущественна, что в конце концов именно она кроит и перекраивает мир.
Зато ветхозаветная мысль попроще, она понятней, ближе здравому смыслу: сила — это сила, хитрость — это хитрость, мирской успех — это мирской успех, а Бог использует их в Своих целях, как использует силы природы. Он использует мощь человека, как использовал мощь мамонта, не слишком сосредоточиваясь на том, добр ли этот мамонт. Понять не могу — неужели простодушный скептик, читая о лукавстве Иакова, думает, что написавший всё это (кто бы он ни был) не догадался, в отличие от нас, что Иаков поступает премерзко?
Нет, представления о чести изменились не так сильно! Однако скептик этот, как почти все теперешние скептики, — христианин. Ему кажется, что патриарх должен быть образцом, что Иаков — вроде святого; и тогда я, конечно, меньше удивлюсь его удивлению. Но это — не дух Ветхого Завета. Герои его — не дети Божьи, а рабы, громадные страшные рабы, вроде восточных джиннов, служивших Аладдину.
Главную мысль большей части Ветхого Завета можно бы назвать одиночеством Божьим. Господь — не только главный герой этих книг, Он — единственный их герой. Перед ясностью Его цели намерения всех прочих тупы и автоматичны, словно у животных; перед весомостью Его все сыны плоти — словно тени. Снова и снова так и слышишь: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною» [Ис 63:3.]. Все патриархи и пророки — просто орудия Его, оружие, ибо Господь — муж брани. Навин для Него — боевой топор, Моисей — отмер, Самсон — только меч, Исайя — только труба.
Святые подобны Богу, они — как бы крохотные Его статуи. Человек Ветхого Завета похож на Бога не больше, чем пила или молоток похожи на плотника. Вот ключ к израильскому Писанию, вот главная его черта. Конечно, в Писании этом очень много и настоящего юмора, и высоких чувств, и сильных натур — их всегда немало в великой древней словесности. И всё же главное не в этом; главное в том, что Бог не просто сильнее человека, не просто непостижимей человека — Он неизмеримо весомей, Он настолько мудрее, что перед Ним мы расплывчаты, глупы, нелепы, как животные, что погибают.
«Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча» [Ис 40:22.]. Можно сказать и так: Ветхий Завет столь настойчиво подчёркивает личностность Бога, что люди в нём едва ли не безлики. Если Его гигантский разум не замыслил чего-то, этого как бы и нет; оно неустойчиво, пусто. «Если Господь не созиждет град, всуе бдит стригий…» [Пс 127 (126): 1. русский перевод: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»]
Словом, Ветхий Завет просто ликует о ничтожестве человека перед замыслом Божьим. «Книга Иова» отличается только тем, что именно в ней встаёт вопрос: каков же этот замысел? Стоит ли он хотя бы жалкой человеческой участи? Без сомнения, легко пожертвовать нашей ничтожной волей ради воли, которая и мудрее, и милостивей. Но милостивей ли она, мудрей ли? Пускай Господь использует Свои орудия; пускай Он ломает их. Но что Он делает, для чего ломает? Ради этого вопроса решаем мы загадку «Иова» как загадку философскую.
Значения «Иова» не выразишь, если скажешь, что это — самая занимательная из древних книг. Лучше сказать, что это — самая занимательная из книг нынешних. Конечно, и то, и другое неполно, ибо и глубокая вера, и глубокое неверие всегда и древни, и новы; если философия не вечна, это не философия.
Любимая в наши дни фраза: «Таково моё мнение, но, может быть, я не прав» исключительно, на удивление глупа. Если ты так говоришь, значит, это — не твоё мнение. Любимая фраза: «У каждого своё мировоззрение, вот это — моё, оно мне подходит» — знак слабоумия. Воззрение на мир создаётся не для того, чтобы подходить человеку; оно создаётся, чтобы подходить миру. Частная вера так же немыслима, как частное солнце или частная луна.
Первая из радостей разума, которую дарует «Иов», — то, что вся книга исходит из стремления узнать, как всё обстоит на самом деле; узнать, что есть, а не что нам кажется. Если бы её писали сейчас, Иов и его собеседники прекрасно поладили бы, приписав свои разногласия «различию темпераментов», приговаривая, что утешители — по природе своей «оптимисты», а Иов — «пессимист», и жили бы тихо-мирно, как живут до поры до времени те, кто примирился с неправдой.
Ведь если слово «пессимист» значит хоть что-нибудь, Иов — никак не пессимист. Он один способен оспорить всю нынешнюю чушь о всевластии темперамента. Чего-чего, а уж мрачности в нём нет. Если жажда счастья и готовность к счастью зовутся оптимизмом, он — оптимист, обиженный оптимист. Он требует от мира оправданий не потому, что хочет их отвергнуть, а потому, что хочет их принять. Он требует от Бога объяснений, но совсем не в том духе, в каком их требовал Хэмден от Карла I, а в том, в каком их требует жена от любимого, почитаемого мужа.
Он препирается с Творцом, ибо Им гордится. Он даже ругается с Ним, но не сомневается, что у «противника» есть непонятные ему оправдания. Как прекрасно кощунство слов: «О, если бы кто выслушал меня! Вот моё желание (…) пусть напишет запись мой истец!» [пер. С. Аверинцева] Ему и в голову не приходит, что запись может быть плохой. Он хочет, чтобы его убедили, то есть думает, что Бог может его убедить. Скажу опять: если слово «оптимист» значит хоть что-то (в этом я не уверен), Иов — оптимист. Он сотрясает столпы земли и безумно бьёт в небеса, он поражает звёзды — но не для того, чтобы они замолкли, а для того, чтобы они заговорили.
Точно так же вправе мы судить о прописных оптимистах, утешителях. Если слово «пессимист» значит хоть что-то (я и тут не уверен), их следует скорее причислить к пессимистам. Действительно, искренне они верят не в то, что Господь благ, а в то, что Он очень силён, и потому вернее назвать Его благим. Я погрешу против правды и против милости, если причислю их к поборникам эволюции; но есть в них что-то, роднящее их с главным убеждением этих бодрых учёных.
Они упорно твердят, что всё в мироздании сходится, словно хоть в какой-то мере хорошо, если многие дурные вещи — на своём месте. Мы увидим, как Господь в лучших, высших стихах книги переворачивает вверх дном именно этот довод.
Когда, уже к концу, внезапно появляется Бог, возникает неожиданная, дивная тема, которая и придаёт книге невиданное величие. Всё время все люди, особенно Иов, задавали вопросы о Боге. У поэта похуже Бог — в том ли, в ином ли смысле — на эти вопросы бы ответил. Но тут Он Сам задаёт вопросы о Себе. В этой драме скепсиса главный скептик — Господь. Он делает именно то, что делали всегда великие защитники веры — скажем, то, что делал Сократ: обращает рационализм против него самого. Он как бы говорит, что, если уж спрашивать, Он побьёт и на этом поприще всё, до чего додумается человек.
Ведомый тончайшим чутьём, автор заставляет Бога согласиться на некое равенство с противником. Он хочет, чтобы поединок был равным и честным: «Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне». Всемогущий идёт на великое, дерзновенное смирение. Он хочет, чтобы Его судили; Он просит только того, чего попросит всякий подсудимый — права спрашивать истца. Что там, сходство с судом Он заводит ещё дальше; ведь, собственно, первый вопрос Его Иову — именно такой, какой задал бы настоящий ответчик. Он спрашивает Иова, кто он. А Иов, человек умный, немного поразмыслив, приходит к выводу, что этого не знает.
Вот первое, что надо заметить в речах Господних, лучших главах книги. Весь человеческий скепсис перекрыт и оспорен высшим скепсисом. Этот самый метод применяли порою и блистательные люди, и посредственные, но с той поры он стал логическим оружием истинных мистиков. Как я уже сказал, Сократ применял его, показывая, что, если вы дадите ему возможность в полной мере использовать софистику, он победит любого софиста.
Христос применял его, беседуя с саддукеями. Когда христианство едва дышало, в XVIII веке, Батлер применял его, объясняя, что доводы рационалистов годны не только против правой веры, но и против веры расплывчатой; не только против этики христианства, но и против этики Просвещения. Именно из-за него, из-за «метода», люди истинно верующие — Ньюмен, Балфур, Мэллок — отличались философским сомнением.
Таковы протоки дельты; Книга же Иова — водопад, породивший самую реку. Беседуя с тем, кто так дерзновенно утверждает сомнение, навряд ли стоит говорить ему, чтобы он перестал сомневаться. Лучше сказать, чтобы он сомневался дальше, больше, сомневался что ни день ещё в чём-нибудь, пока наконец, в озарении, не усомнится в самом себе.
Да, вот первое в речи Божьей — Господь не решает загадки, а ставит. Второе, с этим связанное, делает книгу «религиозной», а не философской: как это ни странно, Иова удовлетворяет перечисление непостижимых фактов. Собственно, загадки Божьи сложнее и таинственней загадок Иова; однако до речи Господа Иов утешиться не мог, после — утешился.
Он ничего не узнал, но ощутил грозный дух того, что слишком прекрасно, чтобы поддаться рассказу. Господь не хочет объяснить Своей цели, и само это, словно пламенный перст, указует на Его цель. Загадки Божьи утешают сильнее, чем ответы человеческие.
Бог бранит и того, кто Его обвинял, и тех, кто Его защищал; сшибает одним и тем же методом и пессимистов, и оптимистов. Утешители утешали поверхностно, машинально, и потому слова их оборачиваются против них с такой красотой и мудростью. Механический оптимист пытается оправдать мир на том основании, что мир разумен и связен. Мир тем и хорош, говорит он, что его можно объяснить.
Именно на это Бог отвечает ясно до ярости. Бог говорит: «Если мир и хорош, то лишь тем, что для вас, людей, объяснить его нельзя». Он настаивает, Он показывает: «Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лёд?..» Мало того, Он подчёркивает явственную и ощутимую неразумность мира: «Чтобы шёл дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека».
Господь заставляет нас увидеть мир на чёрном фоне небытия. Господь заставляет Иова увидеть поразительный мир, даже если для этого нужно показать мир дурацкий. Чтоб удивить человека, Бог становится богохульником; можно сказать, что Он становится безбожником. Показывая Иову, одно за другим, разные творения — коня, орла, осла, ворона, павлина, страуса, крокодила, — Он так описывает их, что они становятся чудищами. Всё это вместе — какой-то псалом, какая-то песнь удивления. Творец дивится тому, что сотворил.
Вот оно, третье свойство книги: Иов ставит вопросительный знак, Бог отвечает восклицательным. Вместо того чтобы объяснить мир, Он утверждает, что мир намного нелепей, чем думал Иов. Но и этого мало: в речи Божьи автор — с той бессознательной точностью, какую мы часто видим в древнем эпосе, — вложил ещё одну, совсем уж дивную тонкость.
То там, то сям, в метафоре, в образе, в скобках вдруг видится, что тайна Господня — радостна, а не печальна. Намёки эти почти случайны, как свет сквозь щёлку двери, словно Всемогущий их Сам не замечает; но в чисто поэтическом смысле трудно переоценить их инстинктивную лёгкость и точность.
Возьмём, к примеру, прославленный стих, где Ягве с уничтожающим сарказмом спрашивает Иова: «Где ты был, когда Я полагал основания земли?» — и вскользь, словно желая уточнить дату, прибавляет, что сыны Божьи восклицали тогда от радости. Или ещё: упоминая снег и град в перечне всего, что бывает, Он говорит о них как о сокровище, которое бережёт на день брани, как бы намекая на ту последнюю битву, в которой наконец сокрушится зло.
Что может быть прекрасней (говорю как писатель), чем эти надежда и радость, светящиеся сквозь незнание, словно золото сквозь тучу? Те, кто читает поверхностно, могут подумать, что я самовольно приписываю поэтическую тонкость случайным сравнениям и словам архаической поэмы. Но те, кто хорошо знают хотя бы «Песнь о Роланде» или старые баллады, этой ошибки не сделают. Те, кто знают, какой была поэзия, непременно подметили, что поверху она проста, в глубине — порою очень тонка.
«Илиада» сумела показать, что в Гекторе есть рыцарственная покорность судьбе, недостаточно горькая для скорби, недостаточно бодрая для радости. Гомер никогда не смог бы выразить это так сложно; но ему как-то удалось выразить это просто. «Песнь о Роланде» сумела показать, что христианство предлагает героям истинный парадокс: великое смирение, если речь идёт о грехах, великое дерзновение, если речь идёт о вере. Конечно, автор не мог бы это сказать; но мы это читаем. Точно так же в «Книге Иова» много такого, что было в сердце автора и, наверное, не было в его сознании.
О самом важном я ещё не сказал. Не знаю (и учёные навряд ли знают), оказала ли эта книга влияние на иудейскую мысль. Но если оказала, она эту мысль спасла. Именно здесь встаёт вопрос о том, непременно ли Бог наказывает грех бедой, вознаграждает праведность успехом. Если бы израильтяне ответили неверно, они не смогли бы сыграть такую роль в нашей, человеческой истории. Они, может быть, опустились бы до уровня нынешних образованных людей.
Ведь только дай человеку подумать, что преуспеяние — награда праведности, он тут же погибнет. Если оно — награда праведности, значит, оно — свидетельство праведности. Слишком трудно награждать успехом хороших людей; куда легче считать хорошими преуспевших, что и делают наши газеты и наши дельцы. Вот оно, последнее наказанье дурному оптимизму утешителей. Если надо было спасти от этого иудеев, «Книга Иова» их спасла. Как важно, что концы толком не сходятся!
Бог не сказал Иову, что тот наказан за грехи или для его же блага. Мы знаем из пролога, что Иов страдал не потому, что он хуже других, а потому, что он лучше. Урок этой книги в том, что человека утешит лишь парадокс. Не буду говорить, что ждало впереди странную истину о лучшем из людей в дурном мире. Да и так понятно, что в самом свободном, самом глубоком смысле лишь один Человек в Ветхом Завете — Личность; и предвосхищен раб Ягве язвами Иова.
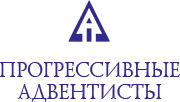
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой