
«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
«ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
Есть в книги Екклезиаста удивительные слова: «Имя лучше хорошего масла, и день смерти лучше дня его рождения» (7:1).
Екклезиаста, конечно, трудно назвать оптимистом, но это, кажется, слишком мрачно даже для него. В каком же это смысле следует понимать? По–видимому, речь здесь идет вот о чем. Новорожденный ребенок, словно драгоценное масло, существует пока только телесно и еще не имеет имени. Его потенциал, как и благовоние, может быть потрачен — или растрачен? — на очень разные цели и может очень быстро улетучиться, как и аромат драгоценного масла. Но если в течение жизни человек приобретет себе доброе имя, в день смерти оно остается за ним навсегда.
Такое понимание присутствует и в традиционных толкованиях. Вот что пишут по этому поводу авторы талмудических трактатов «Шемот Рабба» и «Когелет Раба»: «Когда рождается человек, все радуются; когда он умирает, все плачут… Это подобно тому, как один корабль покидал гавань, а другой входил в нее. Уходящему кораблю радовались, а входящему никто не радовался. Там был один умный человек, и он сказал людям: “Я вижу, вы всё перепутали. Нет причин радоваться уходящему кораблю, ибо никто и не знает, какова будет его участь, какие моря и бури встретит он на своем пути; но тому, кто возвращается в гавань, всем следует радоваться, так как он прибыл благополучно». Подобным образом, когда человек умирает, всем следовало бы радоваться и благодарить, что он покинул этот мир с добрым именем».
Раввинам вторит христианский богослов и переводчик, блаженный Иероним Стридонский: «И день смерти лучше дня рождения” — это означает либо то, что лучше уйти из этого мира и избежать его страданий и ненадежной жизни, чем, войдя в этот мир, терпеливо сносить все эти тяготы, ведь когда мы умираем, наши дела известны, а когда рождаемся — неизвестны; либо же то, что рождение привязывает свободу души к телу, а смерть освобождает ее».
Современный читатель, после некоторых размышлений, наверное, согласится с таким выводом: ведь смерть он понимает как рождение в вечную жизнь, где праведник (или прощеный грешник) сможет, наконец, обрести всё то, чего ему не хватало в жизни временной. Но по–настоящему удивительными нам покажутся эти слова, если мы задумаемся: они были сказаны в обществе, где мало кто думал о загробном блаженстве.
В Ветхом Завете мы найдем только две ссылки, причем обе спорные и сомнительные, в которых можно при желании разглядеть указание на что то хорошее за гробом. Одна — Притч 14:32. Синодальный перевод гласит: «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Казалось бы, всё вполне ясно, но… современные ученые полагают, что это всё таки исправление писцов последующих времен, а изначально в тексте вместо слов «при смерти» стояло «в своей непорочности (имеет надежду)», то есть еще при жизни обретает благо. В еврейском тексте, вероятно, две буквы поменялись местами и смысл переменился, такое порой происходит при переписывании рукописей — да и греческий текст, Септуагинта, здесь как раз говорит о праведности, а не о смерти.
Другое место — в книге Иова (19:25—26). Синодальный перевод и здесь вполне оптимистичен: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Но на самом деле оригинал здесь полон неясностей; достаточно сказать, что там стоит не «во плоти», а буквально «из плоти» или «вне плоти», и, по всей видимости, это значит, что плоти у Иова больше уже не будет. В моем переводе это место звучит так: «Я же знаю, что жив мой Заступник, Он — Последний — встанет над прахом! Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога».
Но даже если оба этих места действительно говорят о благой участи за гробом, никаких других им подобных мы просто не найдем. Но мы найдем в тех же Притчах, у того же Иова множество упоминаний смерти как страшного, окончательного, положенного всем нам предела, за которым не будет уже ни света, ни радости, ни спасения. Тот же Иов говорит: «Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего… Теснишь его до конца, и он уходит; изменяешь ему лице и отсылаешь его. В чести ли дети его — он не знает, унижены ли — он не замечает; но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает» (14:11–12, 20–22).
И всё таки в этой же книге мы встречаем удивительное, дерзновенное, пророческое слово о Шеоле — мире мертвых. На мой взгляд, эти строки стоят ближе к Голгофе и Воскресению, чем всё остальное в Ветхом Завете. Я позволю себе процитировать их в собственном переводе:
Я тоскую по Шеолу, как по дому,
и во тьме себе ложе готовлю,
я гроб зову своим отцом,
а червя — матерью и сестрой.
Где же она, моя надежда?
Надежду мою — кто видел?
Сойдет ли она к вратам Шеола?
Ляжет ли вместе со мной в землю? (17:13–16) Да, сойдет, да, ляжет — готовы крикнуть мы Иову с высоты Нового Завета, но он то об этом еще ничего не знает. Он готовится сойти туда безвозвратно, не ожидая там для себя ничего хорошего. Он умер «старцем, насытившись жизнью», он видел своих правнуков, и примерно то же самое говорится о других праведниках, но это только подчеркивает основную мысль Ветхого Завета: всё хорошее бывает здесь и сейчас, не жди никакого блага там. С одной стороны, до Голгофы, до искупления грехов всего человечества и в самом деле невозможно было говорить о рае. А с другой — может быть, так Господь приучал израильтян к верности Богу не ради загробных наград, а ради самой жизни с Богом уже здесь и сейчас?
Итак, для человека Ветхого Завета всё ценное и важное в жизни происходило здесь, на земле; но человек времен Нового Завета уже знал, что за гробом ему предстоит дать отчет в земной жизни и что дальнейшая его судьба будет зависеть от этого суда. Люди верили, что воскреснут «в последний день», когда завершится земная история и начнется что то новое, непонятное, но прекрасное, о чем говорили пророки.
Андрей Десницкий
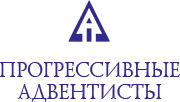
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой