
О ПОНЯТИИ «ПРОЩЕНИЯ».
О ПОНЯТИИ «ПРОЩЕНИЯ».
Когда мы слышим, что прощение грехов «следует понимать в самом обычном, общеупотребительном человеческом смысле» — невозможно не обратить внимание, что в обычном человеческом быту слово «прощение» употребляется в разных смыслах. Как минимум, в трех.
Первый из них — тот, с которым мы встречаемся в Писании, когда речь идет о прощении врагов и обидчиков. «До скольких раз прощать согрешившим против нас? — До семижды семидесяти раз», и мн. др.
Здесь прощение — это отказ мстить или желать обидчику зла. А также следующие ступени — готовность делать обидчику добро и готовность примириться, если он тоже этого захочет.
Такое прощение совершенно односторонне. Оно не зависит от действий обидчика. Обидчик может не просить прощения, не считать себя виноватым, может обижать тебя снова и снова, «до семижды семидесяти раз» — но ты все равно отказываешься отвечать злом на зло, отказываешься ненавидеть обидчика и желаешь примирения.
Интересно, что именно прощение в этом смысле ассоциируется с действиями Бога: мы должны прощать обидчиков таким образом, потому что именно так Бог прощает нас самих.
Причем такая ассоциация существует еще до Искупления — проповеди Христа о прощении врагов были произнесены до того, как Он умер на кресте. Т.е. нельзя сказать, что мы получили возможность или право безусловно прощать своих врагов после Искупления, а до того это было невозможно — и до того это было нашим правом и даже обязанностью.
Второй смысл — просьба о прощении и получение прощения как элементы примирения.
Здесь прощение — действие двустороннее, требующее доброй воли обоих участников. Провинившийся просит прощения, тот, перед кем он провинился, его дает. Случается, что оба считают себя виноватыми и просят прощения друг у друга. После этого они примиряются: между ними восстанавливаются существовавшие ранее добрые отношения (дружбы, близости, взаимного доверия), о ссоре и обиде они больше не вспоминают.
Если один готов простить (и уже простил внутренне, в первом смысле), но второй не считает себя виноватым — примирения не произойдет. В лучшем случае, обиженный может усилием воли «забыть» об обиде или счесть ее незначительной; но отношения будут испорчены, и при следующей размолвке обязательно вспомнится и эта.
Здесь, кроме доброй воли обеих сторон, важно еще и то, что добрые и достаточно близкие отношения между ними изначально существовали и для обоих были очевидны. Ссора и обида — это потеря, которая болезненно переживается обоими. Прощение в этом смысле — глава в истории отношений, начавшихся не сегодня и не вчера.
Просьба о прощении и получение прощения между незнакомцами (толкнул кого-то в метро и сказал «простите») — бессодержательная социальная условность: она предотвращает возможный скандал, но не создает никаких новых отношений, не меняет того, что чужие друг другу люди остаются чужими и тут же расходятся, чтобы никогда больше не встретиться.
Наконец, третий смысл — юридический: прощение как освобождение преступника от наказания. Помилование, амнистия, УДО.
Он на третьем месте, поскольку в современном русском языке слово «прощение» в этом смысле употребляется довольно редко. Об осужденном, который амнистирован или вышел по УДО, обычно не говорят, что его «простили».
Видимо, это связано с тем, что в современном словоупотреблении «прощение» тесно связано с личными отношениями и личными чувствами. Но судебно-юридическое «прощение», как правило, никаких личных отношений и чувств не предполагает.
Ближе всего к личной связи между провинившимся и прощающим стоит помилование — оно осуществляется лично президентом и индивидуально, в отношении одного конкретного человека.
Амнистию объявляет коллективный орган (Госдума), она касается целой категории осужденных, выделенных по формальным критериям. Никакие выражения доброй воли со стороны осужденных при этом не требуются.
Решение об УДО принимает суд. Оно мотивируется тем, что преступник исправился, наказание достигло своей цели — т.е. теоретически добрая воля осужденного при этом необходима. Но на практике от него требуется только желание выйти (рассмотрение вопроса об УДО происходит по его заявлению) и соответствие некоторым формальным критериям. А также, возможно, требуется коррумпировать руководство колонии, чтобы оно написало ему хорошую характеристику.
И такое «прощение» условно, до первого косяка: нарушив условия УДО, осужденный снова отправляется в тюрьму.
Юридическое «прощение» во всех случаях не требует нравственной перемены в прощаемом и не предполагает установления между ним и прощающим каких-то новых отношений. Освобожденный сиделец не преисполняется любви и благодарности к суду, Госдуме и прочим государственным органам, не стремится отныне общаться с ними как можно теснее и как можно ближе. Скорее уж, стремится никогда больше не попадать в поле их зрения. 🙂
Он может после амнистии исправиться и больше не нарушать закон — но это будет индивидуальная реакция, результат какого-то личного развития, в котором, скорее всего, амнистия стала только одним из факторов. Такая реакция не механистична и не может быть «поставлена на поток».
В целом предполагается, что заключенный хочет освободиться от наказания и готов ради этого выполнять определенные правила — а его душевное состояние и отношение к происходящему за этими рамками никого не интересует.
Вообще характерно, что преобладающие разновидности юридического «прощения» — амнистия и УДО — осуществляются безличными коллективными органами, по формальным признакам, и в их правилах заметно желание исключить из дела всякий личный элемент.
Личный элемент имеется в помиловании; но и тут, когда в нем очевидна связь с личными отношениями между милующим и милуемым (случай Байдена и его сына) — такое помилование воспринимается как коррупция и вызывает негодование, а не умиление отцовской любовью и милосердием президента.
И вот, когда мы уподобляем ситуацию между Богом и грешным человеком _в первую очередь_ судебно-юридическому «прощению», именно его рассматриваем как модель и образец, а другие модели считаем чем-то второстепенным и опциональным — выходит, что такое понимание вычеркивает или оставляет за скобками и любовь Бога к человеку и ответную любовь человека к Богу, и личную связь между ними, и душевное состояние человека, и происходящие в нем глубинные перемены. Т.е. все то, что, собственно, составляет содержание христианства.
Наталья Холмогорова
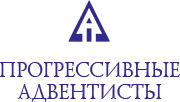
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой