
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА
Человек постхристианского общества находится по отношению к христианской проповеди совсем в иной позиции, чем дохристианский человек.
В древности адресаты Благой Вести делились на иудеев и язычников. (Дальше я упрощаю, но, надеюсь, без сильных искажений.) Иудеи давно были в курсе, что есть Единый Бог, имели с Ним давние и тесные отношения, но в последнее время у них с Ним что-то не ладилось. Язычники подозревали, что, возможно, существует какой-то Верховный Бог, но считали, что Он очень далек, безличен и равнодушен к людям — так что лучше к Нему и не соваться, а в жизни ориентироваться на низших богов и духов.
Христианство предложило иудеям примирение с Богом, язычникам — освобождение из-под утомительной и часто недоброй власти «сил, престолов и начальств», «стихий века сего». Это были действительно хорошие новости. Христианство говорило, что каждый человек, будь он хоть распоследний раб, для самого Творца вселенной важен, нужен и значим. Иудеи, возможно, были в курсе (но относили это только к себе), а для античных язычников это точно было новостью — и, должно быть, очень привлекательной.
Кроме того, и тех и других ждало довольно мрачное и безрадостное посмертие. И в Аиде, и в Шеоле условия оставляли желать лучшего. Вместо этого унылого недо-бытия воскреснуть и жить полной и радостной жизнью вместе с Богом, уподобившись Ему — соблазнительная перспектива!
Но для постхристианского человека «исходная точка» обычно та, что ни Бога, ни богов нет (а если есть, то в каком-то очень неопределенном виде), мир и человечество вполне самодостаточны, и это хорошо. Если бы Бог вдруг обнаружился, сделалось бы хуже.
Те религиозные проблемы, что волновали иудеев или язычников, ему малопонятны. В ценности и значимости каждой человеческой жизни, в том, что все люди братья, онтологически равны и должны друг другу помогать, он уверен — хотя бы теоретически — по умолчанию. Смерть уже не глядит на него, как на древнего человека, из каждого угла, и о ней легко не думать — а посмертие представляется либо как что-то неопределенное, но скорее хорошее, либо просто как небытие. Этот человек более или менее решает сам свои проблемы, то, что нерешаемо сейчас, надеется решить в будущем — и, в общем, живется ему совсем неплохо.
А Бог — по крайней мере, христианский Бог — выглядит для постхристианского человека Тем, Кто хочет все это отнять.
Это, по-видимому, конечная стадия процесса, открыто идущего со времени Возрождения и Реформации (тут я снова упрощаю), а начавшегося, возможно, еще гораздо раньше, в котором православный Восток некритически следовал за Западом. Суть его в том, что Бог постепенно начал восприниматься как Враг человека и источник угрозы для него.
Это какой-то сверхъестественный деспот, чужой миру и людям, с отвращением смотрящий почти на все, что здесь происходит, чьи главные функции — судить, карать и насылать бедствия. Каждое наводнение, каждый случай рака у ребенка — на его совести. А от людей он требует, чтобы за это его благодарили, ему подчинялись, перед ним унижались, ради него отказывались чуть ли не от всех радостей и удовольствий — а тех, кто этого не делает, угрожает схватить и невыносимо мучить целую вечность.
Он стремится отобрать у человека самоуважение и лишить всех жизненных опор. Он отрицает ценность человеческой личности, ибо отправляет людей в Ад целыми странами и народами. Рядом с ним сострадание становится пороком, а осуждение и деление людей на сорта — добродетелью. В его присутствии теряют смысл и ценность любые человеческие дела.
Короче говоря, это Сатана.  Или, если хотите, гностический Демиург, создавший мир специально для того, чтобы садистски замучить всех его обитателей.
Или, если хотите, гностический Демиург, создавший мир специально для того, чтобы садистски замучить всех его обитателей.
Но именно такой образ Бога прочно вошел уже, наверное, не только в коллективное сознание, а в коллективное бессознательное западной культуры. И действует не только на посторонних, но иногда и на самих верующих, которые начинают оправдывать этого «Бога»-дьявола или стараются как-то с ним отождествиться.
А «благая весть» теперь, выходит, состоит в том, что от этого чудовища все-таки есть шанс спастись. И даже, возможно, получить обратно из его лап какие-то крохи того, что он сначала у тебя отнимет.
Между тем, утратив богов и религиозное измерение жизни, люди вовсе не превратились в нелюдей. И не сделались какими-то безнадежно испорченными существами, с которых надо сначала семь шкур спустить, а потом уже с ними разговаривать.
У них по-прежнему есть потребности, на которые отвечает христианство. Потребность в любви (современный человек как-то страшно недолюблен), в принятии, поддержке, утешении. В том, чтобы хоть кто-то увидел в тебе тебя, уникальное существо во всей его сложности, а не совокупность твоих внешних проявлений. Не преследовал и не карал за то, что ты такой, как есть — но, возможно, сказал бы о тебе правду и помог измениться к лучшему.
Потребность в идеале добра, сопряженного с силой: в милосердии, долготерпении и самоотверженности, которые не превращаются в слюнтяйство или в капитуляцию перед злом — и в доброй силе, которая не унижает и не насилует, а поддерживает.
И потребность в спасении никуда не исчезла. Современный человек обычно не ощущает острой необходимости спасаться для себя лично и прямо сейчас; но сам образ спасения и спасителей привлекает его больше, чем когда-либо. Современные герои — врачи, благотворители, волонтеры. Святые современного мира — Рауль Валленберг и Доктор Лиза. Если прославляют войну и военные подвиги, то подчеркивают, что это было единственное средство защитить и спасти своих. В масс-культуре уже много десятилетий господствуют храбрые ребята, спасающие от какого-нибудь космического зла то свою семью, то случайных попутчиков, а то и все человечество. Как в былые времена каждый приличный человек жертвовал на церковь, так теперь сторублирует в благотворительный фонд: это стало своего рода заменой десятины. Не каждый хочет, чтобы спасали его, но почти каждый готов участвовать в спасении других — хотя бы куда-нибудь перечисляя деньги или пристраивая котят.
Если современный человек чем-то принципиально отличается от людей прошлого в нравственном смысле, то это обостренная чувствительность к боли, и своей, и чужой, и ценность эмпатии. (По крайней мере, парадная ценность. На практике-то бывает всякое.) То есть — именно то, о чем, в значительной мере, христианство, что Сам Христос называет главным критерием и главным условием близости к Себе.
Но в постхристианской картине мира Бог мыслится чуждым и даже враждебным всему этому.
И на пути к человеческому сердцу Христу приходится теперь преодолевать двойную преграду. Помимо «лукавости и крайней испорченности», какой отличался человек во все века, и вряд ли здесь что-то принципиально изменилось — Он должен прорваться через черную легенду о Себе, повергнуть зубастое идолище «Бога».
Наталья Холмогорова
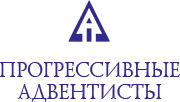
+ Комментариев пока нет
Добавьте свой